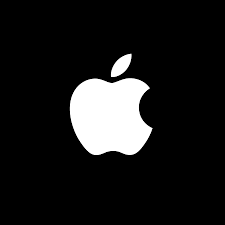Владимир Сорокин
Черная лошадь с белым глазом
© Владимир Сорокин
Не только косили, но и готовились к покосу и отдыхали между заходами все четверо совсем по-разному, каждый на свой манер.
Деда Яков после трех подряд пройденных рядов произносил: «Шабаш!» — шумно выдыхал, падал на колено, хватал своей смуглой, похожей на рачью клешню рукою пук срезанной травы, отирал им косу, вынимал из притороченного к поясу кожаного чехольчика оселок и принимался быстро точить лезвие, бормоча что-то себе в рыжую клочковатую бороду. Старший сын его Филя, или Хвиля, как все его звали, всегда полусонный, молчаливый, с такой же, как и у отца, рыжей бородой и с такими же крепкими, короткими руками, клал косу на траву, шел к опушке, где под дубком сидели мать и Даша, делал пару глотков из липовой баклажки, вытирал рукавом рубахи лицо, садился на корточки и так сидел, поглядывая по сторонам и щурясь. Средний, Гриша, лицом, угловатостью и худобою пошедший в мать, повторял за отцом: «Шабаш, так шабаш!» — брал косу и, устало дыша, брел с ней к торчащей посреди луга расщепленной молнией и полузасохшей липе, где садился и помаленьку точил косу. Младший же, Ваня, которому не было еще и пятнадцати, худой, остроплечий, большеухий, конопатый, косящий маленькой косой, справленной ему по росту, всегда сильно отстающий от косарей, брал косу на плечо и шел за средним братом, где под липой ложился на живот, подпирал острый подбородок двумя шершавыми кулачками и ждал, пока Гриша, покончив со своей, поточит и его маленькую косу.
Даша сидела под дубком, привалившись к нему спиной, смотрела на косарей, на луг, лес, жучков, шмелей, бабочек и одинокого конюха, изредка проскальзывающего в синей вышине над лугом и лесом. Даше нравилось, что пестрый конюх так плавно летает кругами и вдруг совсем внезапно повисает в воздухе на одном месте, быстро маша крыльями и попискивая жалобно, как цыпленок, а потом сразу падает вниз. Мать сидела рядом, привалившись к другой стороне дубка, и вязала носок из серой козьей шерсти. Изредка она вставала и ворошила граблями срезанную траву, которая еще не стала сеном. Тогда Даша брала свою ореховую палку с рогаткой на конце и помогала матери ворошить.
Луг у Паниных был хорош: ровный, гладкий, близкий к деревне и к большаку. Отписали им его благодаря старому председателю, свояку матери, еще в 35-м.
Косили Панины всего первый день, — полмесяца всей деревней косили, гребли и стоговали на лугах колхозных, по правой стороне Болвы. С погодой везло — июнь стоял жаркий, суховетреный, и как говаривал деда Яков, «нонче сенцо лезет на крыльцо».
Вчера Даше исполнилось десять лет. Дед сплел ей новые лапотки, отец подарил глиняную свистульку, а мать — белый платок с красною каймою. Даша была довольна. Платок она хранила у бабки в сундуке, в просторных, на вырост плетеных лаптях пришла на покос, свистульку взяла с собой. Каждый раз, когда отец приходил под дубок напиться и посидеть на корточках, Даша доставала свистульку из кармашка на груди у своего ситцевого платьица, пошитого в Желтоухах залетным портным, и свистела. Отец одобрительно поглядывал на нее, чесал бороду, улыбаясь глазами. Он был молчуном.
Мать тоже не была разговорчива. Бойким на язык у Паниных был только деда Яков.
— Что, Дашуха, тихо ходишь? — спрашивал он по дороге на покос. — Лапти ходу не дают — лыки жопу достают?
Все смеялись, Даша хватала деда за кривой, потемневший от работы палец с черным толстым ногтем и бежала с ним рядом, шаркая новыми лаптями по пыльному большаку.
Когда косари срезали треть луга, а солнце встало над головами и сильно припекло, деда Яков махнул рукой:
— Обед!
Побросав косы, косари потянулись под дубок. Пока они жадно пили, передавая друг другу баклажку, мать и Даша расстелили рваную холстину, стали доставать из плетеного кузовка припасенную снедь: полковриги ржаного хлеба, ворох зеленого лука, дюжину печеных картошин, махотку с топленым молоком, маленький кусок сала в тряпице и соль в бумажном фунтике.
— Господи, благослови… — устало выдохнул деда Яков, взял ковригу, прижал к груди и стал сноровисто нарезать ломти большим старым ножом с потемневшей и истончившейся деревянной ручкой.
Братья взяли по ломтю и сразу стали есть.
Деда Яков перекрестился, обмакнул ломоть хлеба в соль, откусил, схватил перо лука, скомкал, сунул в рот и стал быстро-быстро жевать, отчего клочковатая борода его смешно зашевелилась. Даше нравилось смотреть на деда, когда он ел. Ей казалось, что деда Яков вдруг превращался в старого и беспомощного зайца. Братья же ели как-то серьезно, словно работали, становясь скучными и угрюмыми. Причем младший, Ваня, во время еды сразу как-то тут же взрослел и делался таким же мужиком, как отец и Гриша.
Мать разрезала сало на восемь шматков и раздала мужикам. Сало было старое, желтое — боров околел прошлым летом от непонятной болезни, а нового поросенка взяли только весной. Зато была корова Доча. И хорошо давала молока.
Мать поставила на середину холстины махотку с топленым молоком, раздала деревянные ложки, проткнула своей ложкой темно-коричневую пенку, застывшую на зеве махотки, размешала:
— Ешьтя…
Телесного цвета молоко перемешалось с белой, густой, скопившейся сверху сметаной. Быстро проглотив сало, мужики полезли ложками в махотку. Мать и Даша подождали, пока те зачерпнут, и сунули свои ложки.
Молоко было прохладным и вкусным. Даша черпала его, шумно хлебала и заедала хлебом. Больше всего в топленом молоке ей нравились желтые крошки масла. Дома сбивали масло только на Пасху, когда бабка пекла гречишные блины. Масло очень вкусно пахло и тут же таяло на блинах. Его всегда было мало.
Мать ела как обычно, без спешки, неся ложку с молоком над ладонью, тихо глотала, покорно склоняя набок маленькую голову, повязанную линялым бледно-синим платком.
Мужики хлебали молоко, громко фыркая.
— Роса нонче дюже быстро сошла… — пробормотал Гриша, вытирая молоко с подбородка. — По сухому-то косить… оно тово…
— Жаришша, а как же… — Хвиля разломил печеную картофелину, макнул в соль, откусил.
— Ничо. Без спеху свалим, — деда Яков быстро хлебал молоко.
— Хоть посохнет враз, — мать зачерпнула большой кусок сметаны и протянула Даше. — На-ка, верха поешь…
Даша облизала свою ложку, положила на холстину. И обеими руками приняла ложку матери, до краев, с верхом наполненную сметаной. Белая, густая, она с трудом помещалась в новой деревянной ложке, норовя полезть через край. Даша осторожно понесла ложку ко рту. Сметана заколыхалась, оседая. Верх ее оплывал. Луч полуденного солнца, пробившись сквозь листву дубка, упал на полукруглый белый сметанный верх, вспыхнул. В сметане просияли крохотные желтые крохи масла. Даша открыла рот. И вдруг в этой нежнейшей, лучащейся белизне отразилось что-то темное. Даша оглянулась.
Совсем рядом стояла черная лошадь.
Даша вздрогнула. Сметана сорвалась с ложки и плюхнулась ей на колени. И все увидели лошадь.
— Ах, штоб тебя! — удивленно дернулся и прищурился деда Яков.
Лошадь шарахнулась от сидящих, отошла и встала поодаль, похлестывая себя черным, спутавшимся хвостом. Она была глубокой вороной масти, приземистая, широкогрудая, ширококостная, как и все крестьянские лошади, с большой головой, маленькими ушами и густой, косматой, давно не стриженной гривой. Репьи густо сидели в этой гриве. Слепни вились над лоснящейся спиной лошади.
— Родимая моя мамушка… — вздохнула мать, перекрестилась и положила руку на свою небольшую грудь. — Вот напугал, пролик…
— Чья ж это кобыла? — привстал Гриша.
— Не нашенская, — положил ложку деда Яков. — У нас вороных сроду не водилось.
Гриша пошел к лошади, на ходу вытягивая из портов ремешок. Стоящая боком, она поворотила к нему морду, наклонила и потянула ноздрями. И все сразу заметили, что левый глаз у нее совсем белесый.
— Гля, так она ж слепа на один глаз! — усмехнулся Гриша, подходя. — А ну, ня бойсь… ня бойсь…
Лошадь прянула в сторону. И встала левым боком.
— Гринь, заходи слева, там, где глаз у ей слеп, — посоветовал деда Яков. — Видать, с Бытоши отбилась, бродяга.
— Не, тять, она от цыган ушла, — хмуро смотрел на лошадь Хвиля, приподымаясь. — В Желтоухах опять табор встал. От них и сбегла. Вона лохматая какая…
Гриша осторожно приблизился к лошади, сделав из ремешка кольцо и держа его за спиной. Но лошадь снова отбежала.
— Ах, ты, гадюка… — посмеивался Гриша.
— Погодь, Гришань, — Хвиля отломил кусок хлеба, пошел к лошади. — На-ка, лохматая, возьми…
Вдвоем они стали осторожно, как охотники, приближаться к лошади с двух сторон. Она замерла, прядая маленькими ушами и пофыркивая. Гриша и Хвиля стали двигаться совсем медленно, как во сне. И Даше стало почему-то очень беспокойно. Сердце у нее сильно забилось. Затаив дыхание, она смотрела, как коварно приближаются люди к лошади: отец с куском хлеба на ладони, дядя Гриша — с ремнем за спиной.
— Ня бойсь, ня бойсь… — бормотал Гриша.
Подойдя совсем близко, мужики остановились. Хвиля протянул хлеб почти к самой морде. Гриша напрягся, закусив губу. Замершая лошадь всхрапнула и кинулась между ними. Мужики бросились на нее, вцепились в гриву. Даша закрыла глаза. Лошадь заржала.
«Хоть бы не поймали!» — вдруг неожиданно взмолилась Даша, не открывая глаз.
Она слышала ржание лошади и ругань мужиков.
Потом ржание прекратилось.
— Ах, ты, мать твою… — злобно произнес отец.
— Стерва дикая… — произнес Гриша.
Даша поняла, что лошадь не поймали. И открыла глаза.
На лугу стояли отец и Гриша. Лошади не было.
— Эх вы, анохи! — в сердцах махнул на них рукой деда Яков. — Кобылу споймать не могёте.
— Дикая она, тять, — Гриша стал вставлять ремешок в сползающие с него порты.
— По лесу бегает, шалава… — отец поднял оброненный хлеб, подошел, положил на холстину.
— Коли слепа, да дика, какой прок от нее? — пробормотала мать и ложкой стала собирать сметану с Дашиного подола.
Колени Даши дрожали.
— Ты чаво? Спужалась? — улыбнулась мать.
Даша покачала головой. Она была очень рада, что лошадь не поймали. Мать снова протянула ей ложку со сметаной. Даша взяла и жадно проглотила густую, прохладную сметану. Повскакавшие мужики снова сели, взялись за ложки и принялись дохлебывать молоко. Появление и исчезновение дикой кобылы возбудило их. Они заговорили о лошадях, о цыганах, их ворующих, о непутевом новом председателе, о провалившейся крыше колхозной конюшни, о гречихе, о клеверах на той стороне, о ночных порубках на просеках под Мокрым, о мокровских плотниках и вдруг заспорили о том, где лучше драть дор из ворованной елки — у себя в сарае или в бане у Костичка.
Даша не слушала их. После того как лошадь убежала, ей стало хорошо и легко.
— Даш, чаво ты сидишь сиднем? — мать поправила свой сбившийся платок. — Пойди ягоды насбирай.
Даша нехотя встала, взяла пустой кузовок, повесила на плечо и пошла в дальний конец луга.
— Далёко не ходи, — облизывал ложку отец.
Даша пошла сперва по стерне, громко шорхая новыми лаптями, потом по стоячей траве, пугая стрекочущих кузнечиков. Трава нагрелась на солнце, и в ней было горячо ногам. Даша прошла весь луг, оглянулась. Мужики поднялись косить. Даша вытащила свистульку из кармашка и громко свистнула. Мать махнула ей рукой. Птицы, в обступавшем луг лесу, откликнулись свистульке. Даша свистнула еще раз. Послушала голоса птиц. Свистнула. Убрала свистульку и вошла в редколесье на узком конце луга. Здесь стоял молодой березняк, а в нем кустилась земляника. Даша вошла под березы, сняла жесткий лыковый кузовок с плеча, поставила в траву и принялась собирать ягоду и носить к кузовку. Земляники было много, и никто до сих пор не обобрал ее. Даша рвала спелые и не очень ягоды, сыпала в кузовок, а те, что покрупней, ела сама. Земляника была сладкой. Собрав ягоду на одной поляне, Даша перенесла кузовок на другую. Вдруг какая-то птица вспорхнула у нее из-под ног, затрещала крыльями, отлетела и села на березу. Даша вынула свистульку и свистнула. Птица отозвалась тонким прерывистым писком, совсем как свистулька. Даша удивилась. И снова свистнула. Птица откликнулась. Даша пошла к птице. Птица вспорхнула, отлетела и снова села где-то. Даша успела заметить, что птица пестрая, как конюх, но гораздо меньше. Даша свистнула. Птица откликнулась. Деда Яков рассказывал Даше, что птицы говорят на своем языке, но только святые люди и птицеловы понимают птичий язык.
— Свистулька по-птичьи говорит! — прошептала Даша.
Ей захотелось расспросить птицу про лесную жизнь, про клады, которые, по словам бабки, охраняют горбатые лешие. Она пошла по березняку к птице, дуя в свистульку. Птица откликалась. Но, подпустив Дашу поближе, снова снялась и улетела, треща крыльями. За березняком начинался густой старый ельник. Птица упорхнула туда.
— Куды ж ты, зараза! — вскрикнула Даша так, как кричат взрослые на непослушную скотину.
Она подумала, что птица полетела туда, где ее гнездо, как у курицы. А гнёзда-то всегда в укромных местах обустроены, чтоб помехи не было. Стало быть, там, в темном ельнике, и есть гнездо этой птицы. Там птица сядет, успокоится и расскажет про клады, укажет места тайные. А они потом с тятей возьмут заступ, пойдут, да и выроют. И купят лошадь. И поедут на ней в Людиново. И накупят там всякого добра.
Даша вышла из березняка, пробралась между двумя огромными кустистыми орешинами с теплыми, мягкими листьями, переступила сквозь трухлявое, поросшее мхом и засохшими поганками дерево и подняла глаза.
Еловый бор сумрачной стеной стоял перед ней. Даша вошла в него. Высокие ели сомкнулись над ее головой. И солнце скрылось. Лаптям сразу стало мягко ступать. В бору было прохладно и очень тихо. Даша свистнула. В глубине бора послышался слабый писк птицы.
— Ах, ты! — пробормотала Даша и двинулась на свист.
Она шла между еловых стволов по мягкой, усыпанной хвоей и шишками земле. Кругом стало еще сумрачней и тише. Даша остановилась: впереди в полумраке теснились еловые стволы. Ей показалось, что там, впереди, — ночь. И она может войти в нее. Стало боязно. Даша оглянулась назад, где еще виднелся залитый солнцем березняк. Там, на лугу, ждали мать и отец. Но надо было найти птицу. Даша свистнула. Лес молчал. Она свистнула еще раз. Птица отозвалась впереди. И Даша двинулась вперед, в ночь, на голос птицы. Ступала по мягкой земле, огибая и трогая шершавые деревья, обходя пни, обрывая паутину, перешагивая через сухие ветки. И вдруг вошла в совсем ровную аллею. Толстенные ели двумя рядами стояли перед ней, словно кто-то посадил их когда-то давным-давно. Ели были огромные, старые, полумертвые. Стволы их, источенные жуками, зияли темными дуплами и расходящимися трещинами, полными застывшей смолы. Даша вошла в аллею. Впереди было совсем темно. Оттуда тянуло прелью. Даша свистнула. Птица отозвалась. Даша пошла по аллее. Сумрак сгущался, мощные еловые ветви переплелись наверху, скрыв и солнце, и небо. Впереди показалось что-то маленькое и белое.
«Птица!» — подумала сперва Даша, но вспомнила, что та была пестрой.
Маленькое белое повисло посередине аллеи.
Даша подошла ближе к белому. Оно висело неподвижно. Потом исчезло. И появилось снова. Даша подошла совсем близко. Белое снова исчезло. И появилось. Даша посмотрела внимательно. И вдруг разглядела, что это маленькое белое — белесый лошадиный глаз. Он моргал. Даша пригляделась еще. И увидела всю черную лошадь. Ту самую. Лошадь стояла в темной аллее. Она была еле различима в полумраке. Черное тело ее словно слилось с сумрачным воздухом, пахнущим хвоей и смолой.
Даша стояла, замерев.
Ей совсем не было страшно. Но она не знала, что делать.
Лошадь совсем не двигалась. Не жевала губами, не втягивала ноздрями воздух.
«Спит?» — подумала Даша и посмотрела на здоровый глаз кобылы. Влажный, темно-лиловый, как слива, он глядел куда-то вбок. Совсем не на Дашу.
— Ня бойсь, — произнесла Даша.
Лошадь вздрогнула, словно проснулась. Ноздри ее выдохнули воздух.
— Ня бойсь, — снова повторила Даша.
Лошадь стояла все так же неподвижно. Даша осторожно протянула руку и положила ее на губы лошади. Они были теплыми и бархатистыми.
— Ня бойсь, ня бойсь… — липкими от земляники пальцами Даша погладила лошадиные губы.
Лошадь медленно опустила голову. Понюхала хвоистую землю. И замерла с опущенной головой. Продолжая гладить губы и ноздри кобылы, Даша присела на корточки. Белесый глаз оказался совсем близко. Даша уставилась на него. Глаз был не весь белый. В середине темнел маленький черный зрачок с тончайшим синеватым ободком. Даша приблизила свое лицо к необычному глазу. Он моргнул. Лошадь все так же неподвижно стояла с опущенной головой. Даша разглядывала глаз. Он ей напомнил трубу, которую их учительница, Варвара Степановна, привезла из Людинова и показывала на уроке. Труба называлось длинным взрослым словом на букву «к». Даша не запомнила слово и назвала трубу «каляда-каляда». В той трубе была маленькая дырочка. В нее надо было смотреть, поворотив другой конец трубы к свету. В трубе был виден красивый цветок. Если каляду-каляду вертеть, цветок превращался в другие цветки, и их становилось так много, и все они были такие красивые и разные, что дух захватывало, и можно было всю жизнь вертеть и вертеть эту трубу.
Даша заглянула в лошадиный глаз.
Она была уверена, что в глазу у лошади все белое-пребелое, как зимой. Но в белом глазу совсем не оказалось белого. Наоборот. Там все было какое-то красное. И этого красного в глазу напхалось так много, и оно все было какое-то такое большое и глубокое, как омут у мельницы, и какое-то очень-очень-очень густое и жадное, и как-то грозно стояло и сочилось, подымалось и пухло, словно опара. Даша вспомнила, как рубят курам головы. И как хлюпает красное горло.
И вдруг ясно увидала в глазу у лошади Красное Горло. И его было очень много.
И Даше стало так страшно, что она застыла, как сосулька.
Белый глаз моргнул.
Лошадь вздохнула. Вздрогнула всем телом. Всхрапнула. Подняла голову, шумно втянула ноздрями сумрачный воздух. И, не обратив никакого внимания на Дашу, пошла в глубь бора.
Даша сидела на корточках, не дыша. И вдруг поняла, что никогда в жизни больше не увидит эту черную кобылу. Кобыла выходила из Дашиной жизни, как из хлева. Брела, пофыркивая. И вскоре скрылась среди деревьев.
Даша села на землю. Руки ее опустились на еловые иголки. И страх сразу прошел. Даше стало как-то тоскливо. Она почувствовала, что жутко устала. И очень захотелось пить.
Она встала и пошла на просвет. Выйдя из бора, сощурилась от яркого солнца. За это время стало еще жарче. На поляне в березняке она нашла свой кузовок, повесила на плечо и пошла на луг.
Мужики косили уже на середине луга. Мать ворошила сено. Даша подошла к ней.
— Ну что, много насбирала? — поправив сползший на глаза платок, мать заглянула в кузовок, засмеялась. — Всего-то?! Много!
— Я лошади у глаз глядела. Там горло красное, — произнесла Даша и неожиданно разрыдалась.
— Ты чаво? — мать взяла ее на руки, потрогала лоб. — Перегрелася девка…
Мать отнесла плачущую Дашу под дубок, прыснула на нее водой. Проплакавшись, Даша напилась воды и заснула глубоким сном. Проснулась уже на руках отца, который нес ее домой, в деревню. Солнце садилось, мычали пришедшие домой коровы, полаивали собаки.
Дома ждали бабка и трехлетний брат Вовка. Вечерять сели уже в сумерках, при керосиновой лампе. Бабка вынула из печи котел с теплой похлебкой. Ели со свежеиспеченным хлебом, молча. Даша жадно глотала похлебку, жевала вкусный свежий хлеб. Мать потрогала ей лоб:
— Прошло…
— Перегрелася внучка бабкина! — подмигивал Даше деда Яков.
— Солнце у кровя пошло, знамо дело… — кивала крепкотелая, большеротая бабка.
Наевшись, все устало побрели спать кто куда: деда Яков в сад, Гриша с Ваней в сенник, мать с маленьким Вовкой в хату, бабка на печь. Отец, зевая, стал тушить меднобокую, вкусно пахнущую керосином лампу. Но Даша вцепилась ему в штанину:
— Тять, а листок?
— Листок… — отец вспомнил, усмехнулся в бороду.
Каждый вечер Даша отрывала листок календаря, висящего на стене рядом с часами-ходиками и деревянной рамкой с фотографиями. В рамке были отец в солдатской форме, мать и отец с цветами и пририсованными целующимися голубями, деда Яков с винтовкой на Первой мировой и он же со старым председателем на ярмарке в Брянске, танк «КВ», Сталин, Буденный и актриса Любовь Орлова.
Отец поднял Дашу, она оторвала листок календаря.
— Ну, читай, чего завтра будет, — как всегда, сказал отец.
— Двадцать второе июня… вос…кресенье… — прочитала вслух Даша.
Отец опустил ее на пол:
— Воскресенье. Завтра опять косить пойдем… Спи!
И он шутливо шлепнул Дашу по попе.